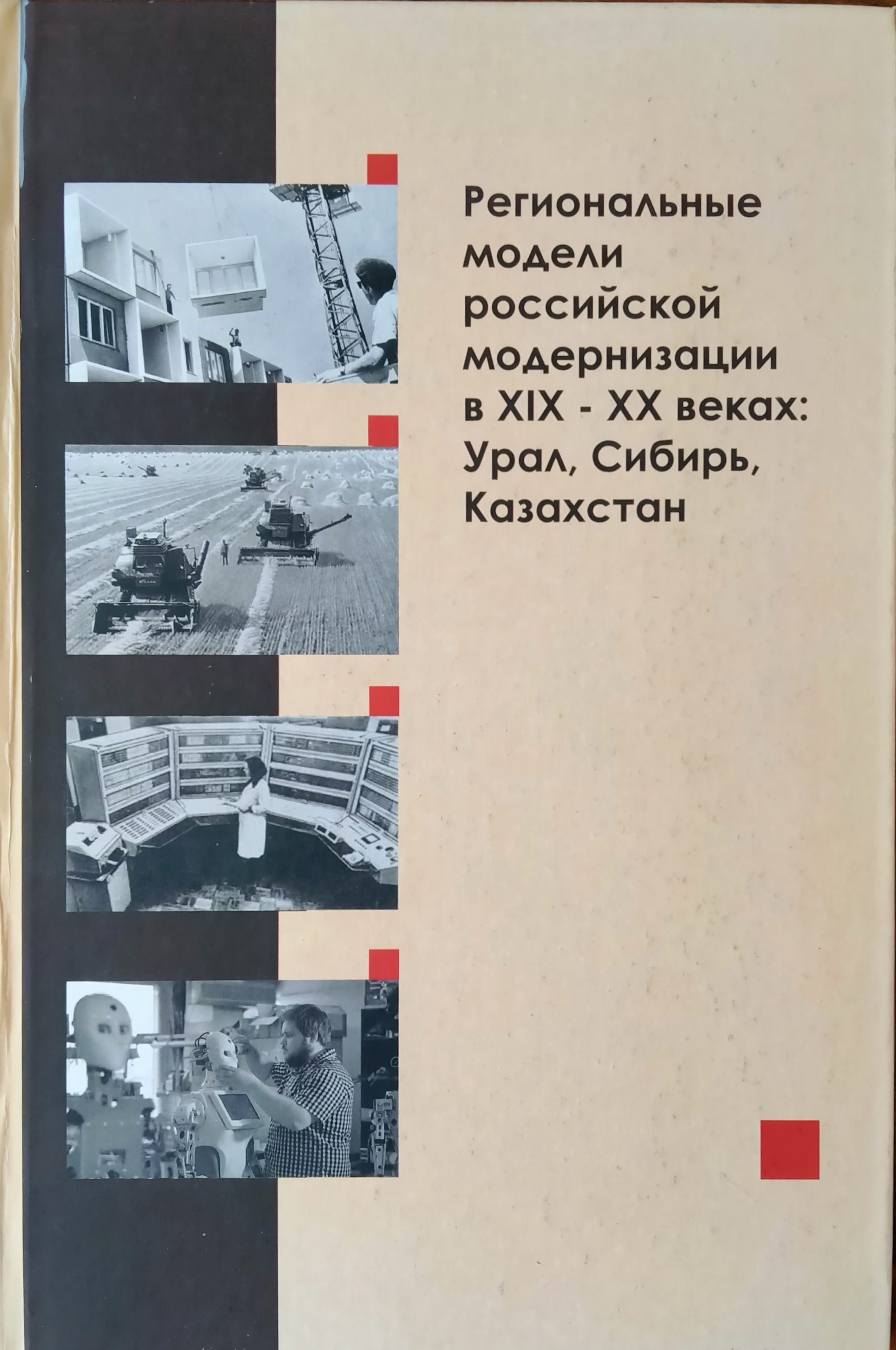| [ Скачать с сервера (320.5 Kb) ] | 22.08.2020, 12:59 |
Понятия «модернизация» и «альтернатива» в истории стали распространяться в отечественной историографии с 90-х годов XX века и до сих пор остаются «модными». Примером может служить настоящая конференция, которая ставит перед собой задачу обсуждения именно этой темы (в рамках региона). Между тем и то, и другое носит нечёткий, я бы даже сказал, размытый характер. Часто историки вкладывают в них свой, порой только им известный смысл. Модернизацию нередко понимают в самом широком смысле, как «осовременивание» общественной и политической жизни — глубокие преобразования, вызванные промышленной, демократической и образовательной революциями [12, с. 39]. Применительно к XXI веку говорят даже о ситуации постмодерна, т. е. постсовременного общества. Среди смыслов, вкладываемых в это понятие: «изменения в соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами», «достижение прогрессивных сдвигов, путём внедрения различных усовершенствований», «процесс обновления и усовершенствования общественных элементов и всего устройства общества в соответствии с новыми требованиями времени» [15, с. 6, 7]. На практике за словом «модернизация» в исторических исследованиях нередко стоит оценочный маркер или, как выразился на конференции в Саранске А. С. Синявский, «определённые идеологические отягощения» — хороша только та модернизация, которая основана на демократизации и политических (и прочих) свободах. Иначе говоря, под «модернизацией» подразумевается исключительно капиталистический путь развития западного образца [2, с. 81]. Применение такого подхода вряд ли способствует объективному освещению развития общества. Обращение к теме «альтернатив» в истории часто скрывает за собой самую настоящую «провокацию» (некоторые авторы в этом прямо признаются) и опирается на убеждение, что в истории отсутствуют законы развития [4, с. 3]. Если это признать, заниматься изучением исторического процесса нет смысла. Вместо этого следует возвращаться к «истокам исторической науки», когда считалось, что главная задача историка — воспитание, показание примера. Иначе говоря, историческая наука в этом случае независимо от желания авторов «альтернатив», постепенно, но неуклонно теряет своё научное звучание. Всё-таки за формулировкой предмета исторической науки — «процесс развития конкретного общества» — так или иначе, стоят представления о существовании «законов» истории, или, по крайней мере, закономерностей. А если нет предмета для изучения, то и науки никакой быть не может. Вытащенные на поверхность исторического процесса «альтернативы» неизбежно оказываются выдуманными или воображаемыми. За желанием увидеть, как могла бы развиваться Россия, оказывается самая настоящая химера, и такая химера, которая может поглотить и читателя, и самого автора, и историческую науку, и общество в целом. Как можно рассматривать в качестве альтернативы два пути, якобы стоявших перед Россией в начале XX века: модернизация или контрмодернизация? Что это значит — светлое капиталистическое будущее, реальная демократия и индустриализация (это модернизация) или мрачное феодальное прошлое с крепостническим хозяйством и салтыковщиной (контрмодернизация)? [15, с. 124.]. Выбор без выбора? Если избавиться от «идеологических отягощений» и под модернизацией понимать переход к экономически высокоразвитому обществу, у России теоретически вырисовываются две основные альтернативы: реформы или революция. По сути, это означало — развитие русской экономики по пути монополистического капитализма или коммунизма (это как раз и имел в виду указанный выше автор под словом контрмодернизация). На первый взгляд, такая альтернатива действительно была. Можно вспомнить преобразования П. А. Столыпина, который пытался решить проблему малоземелья крестьян центральных губерний, не трогая помещичье землевладение; и реформу политического управления (создание Государственной Думы, введение политических свобод, появление многопартийной системы и т.п.). «Модернизация» шла семимильными шагами по необъятным просторам Российской империи. Это трудно не заметить. Страна в начале XX века существенно изменилась. Даже внешне. В городах появляются кварталы с водопроводом, канализацией, телефонами, электрическим освещением, трамваями. Строятся богатые особняки в стиле модерн, большие магазины, снабжённые яркой рекламой, многоэтажные доходные дома. Вырастают будто из-под земли кинотеатры, на заводах распространяется электросварка и другие новые технологии, появляются автомобили, аэропланы, подводные лодки [5, с. 19–21.]. Оценки состояния русского общества и экономики в начале XX века менялись в отечественной историографии. В первой половине XX века принято было считать Россию самым слабым звеном в системе капитализма. В 50-е –60-е годы распространяется убеждение в том, что русский капитализм начала XX века находился на уровне ведущих стран (вступил в монополистическую стадию), был достаточно развитым и самостоятельным. В конце 60-х – начале 70-х годов сторонники так называемого «нового направления» (К. Н. Тарновский, И. Ф. Гиндин, М. Я. Гефтер и др.) попытались изменить эти представления. Они полагали, что русский капитализм не прошёл стадии промышленного переворота и не знал свободной конкуренции. При этом капиталистический уклад продолжал конкурировать с другими экономическими укладами. В деревне вплоть до Октябрьской революции господствовали феодально-крепостнические порядки. Однако все эти положения советскими историками были отвергнуты. В настоящее время существуют все указанные подходы. На самом деле, никакой альтернативы революции не было. Хотя бы уже потому, что у нас не было другого царя, кроме Николая II, а у него не было другого наследника, кроме Алексея. А это означает неизбежное появление Григория Распутина, дискредитация царской власти и падение её авторитета. Николай II не был готов к царствованию и не понимал, что делать. Государь обладал качествами, ценными для обычного гражданина, но роковыми для правителя: он был прекрасным семьянином, верил в присягу, пытался быть честным, обходительным и доступным для всех [1, с. 171]. Великий князь Александр Михайлович писал: «Он [Николай II] проходил чрез стадии своей жизни и верными шагами шёл в том направлении, которое было указано его многочисленными комплексами. Он потерял во всё веру. Хорошие и дурные вести имели на него одинаковое действие: он оставался безразличным. Единственной целью его жизни было здоровье его сына» [1, с. 171]. Цесаревич Алексей страдал гемофилией. Это хорошо известно. Г. Распутин, спас его от неминуемой смерти — в это верила его мать, в это верил его отец [1, с. 179]. Общественность напротив смаковала пьяные похождения сибирского мужика Гришки, его влияние на царя и царицу, воцарившийся во дворце разврат и произвол. И не важно, что со временем выяснилась лживость этой информации. Дело было сделано. Власть, потерявшая авторитет и не способная решительно действовать, практически обречена на гибель. В начале XX века в России появляются политические партии. Среди них были крайне радикальные организации, целью которых было свержение существовавшего политического режима и даже полное переустройство общества. Это партия социалистов-революционеров (эсеры) и социал-демократы (РСДРП, в особенности большевики). Обе партии были прекрасно организованы и спаяны, имели поддержку из разных источников. Легальные партии (Партия народной свободы (кадеты), Союз 17 октября) также находились в оппозиции к царской власти. Сочетание только этих двух факторов — ослабление центральной власти и появление организованной силы, способной её свергнуть (политические партии), создают очень большой риск социальных потрясений. Наличие заинтересованных сил и финансирования делают переворот неизбежным. Особенно если общество действительно переживало не лучшие времена, испытывало ряд проблем, который волновал общественное мнение. А такие проблемы были. Крестьянский вопрос так и не был решён царским правительством. А крестьяне составляли большинство населения страны. В своё время его сущность В. И. Ленин выразил так: «Около 70 миллионов земли у 30000 крупнейших помещиков и приблизительно столько же у 10 миллионов крестьянских дворов» [9, с. 307]. Решение вопроса он видел в устранении остатков крепостничества, ломке помещичьего и надельного крестьянского землевладения. Для крестьян это была, прежде всего, проблема малоземелья, в условиях существования крупного помещичьего хозяйства. По словам профессора М. И. Леонова, «русский крестьянин не мог примириться с тем, что в то время, когда он страдает от недостатка пашни, покосов, выгонов, рядом раскинулись гигантские поместья. Он непоколебимо верил в то, что по праву — это его земли; политые потом многих поколений его предков, они в незапамятные времена были отняты силой и обманом. Это чувство жгло сердце. Никто и ничто не могло переубедить крестьянина. Владельцы латифундий не уступали — для них это был вопрос жизни, привычного устойчивого бытия. Власти стояли на их стороне. Развязать этот гигантский узел противоречий не удалось никому» [10, с. 4.]. Нерешённость земельного вопроса сопровождалась социальным расслоением крестьянства и ростом напряжения в деревне. Как заметил В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России», этот процесс означал «коренное разрушение старого патриархального крестьянства и создание новых типов сельского населения» [8, с. 165]. Сами крестьяне называли это явление «раскрестьяниванием». «В тот период, когда Россия переживала мощный промышленный подъем (в среднем 9 % в год, первое место в мире по темпам развития), крестьянство в целом беднело. При этом основные тяготы кризиса выпадали на долю беднейших слоёв. В результате — впервые в русской истории — сложилась ситуация, при которой в деревне появились десятки миллионов людей с постоянно (как тенденция) снижающимся уровнем благосостояния. И социальное напряжение неумолимо поползло вверх» [6, с. 89]. Русское общество, в особенности его элитарная часть, испытывало в это время кризис традиционного мировоззрения, который выражался в таких явлениях как разочарование в старых идеях, отношение к существующим порядкам как несправедливым, неверие в будущее, богоискательство, надежда на чудо, увлечение астрологией и всякого рода гаданиями, мистицизмом. В богоискательстве и богостроительстве были замечены известные литераторы, философы, экономисты и художники: Д. С. Мережковский, Вяч. И. Иванов, В. В. Розанов, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, А. Блок, А. Н. Бенуа, И. Е. Репин, В. Я, Брюсов и многие другие. Всероссийское распространение получил нигилистический взгляд на всё, пошлый юмор, смехачество на «вечные» темы: капризы моды, женское легкомыслие, муж-рогоносец, пьянство [5, с. 29, 32]. Ещё одним проявлением кризиса была сексуальная революция. Проблема пола, наряду с богоискательством и богоборчеством, стала чуть ли не главной в жизни высшего (и не очень) общества. «Гимны» свободной любви воспевались в печати, поэзии, театрах и кинотеатрах. Поэтизировались «жрицы» любви, как грибы после дождя вырастали дома терпимости, повсюду распространялась порнография (в печати, театрах, выставках). Появились журналы, которые печатали исключительно историю проституции, маркиза де-Сада, Казанову и т. п. Как выразился однажды А. С. Суворин, вновь появившиеся «беллетристы собаку съели на женском теле» [5, с. 30.]. В таких условиях старое мировоззрение легко уступало место новому. Практически уже ничего не мешало распространению самых радикальных учений, в том числе, марксизма, полностью и решительно оправдывавшего революционное насилие. Основатель учения К. Маркс говорил о насилии, как о «повивальной бабке всякого старого общества». Вождь русских большевиков В. И. Ленин, называл полемику Ф. Энгельса с Дюрингом «панегириком насильственной революции» [7, с. 21.]. Сам В. И. Ленин в ноябре 1917 года признавался: «приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нём писать» [7, с. 120.]. Л. Д. Троцкий, создатель Красной Армии, вспоминал, что Ленин, после Октября «при каждом подходящем случае вколачивал мысль о неизбежности террора» [14, с. 83]. Ощущение такое, что накануне революционных потрясений многие только и ждали, когда они начнутся, жаждали его. «Пусть сильнее грянет буря!..» — писал в 1901 году молодой Максим Горький [3, с. 327]. «Смело товарищи в ногу» (1897 г.) — пели во всех уголках России. О том, что это такое — праведное революционное насилие — стало понятно только потом, когда началась Гражданская война: массовые расстрелы по любому поводу, взятие в заложники, пытки и издевательства. Среди зафиксированных форм «революционного опыта» насилия — привязывание цепями к доскам, медленная жарка в топке, разрывание пополам колесами лебёдок, опускание по очереди в котёл с кипятком и в море, размещение жертвы в ящике с разлагающимися трупами, не говоря уже о банальных избиениях, увечьях и т. п. [11, с. 129] Таким образом, модернизация России в начале XX века, если её понимать исключительно как создание высокоразвитого промышленного общества, не имела другой альтернативы, кроме революции. Как говорил И. В. Сталин на лекции по основам ленинизма «Россия была беременна революцией более, чем какая-либо другая страна» [13, c. 74].
Список использованных источников
| |
| Просмотров: 517 | Загрузок: 10 | | |
| Всего комментариев: 0 | |